Брославский Лазарь Израилевич о монографии «Экологическое право: теория и совершенствование природоохранного законодательства»
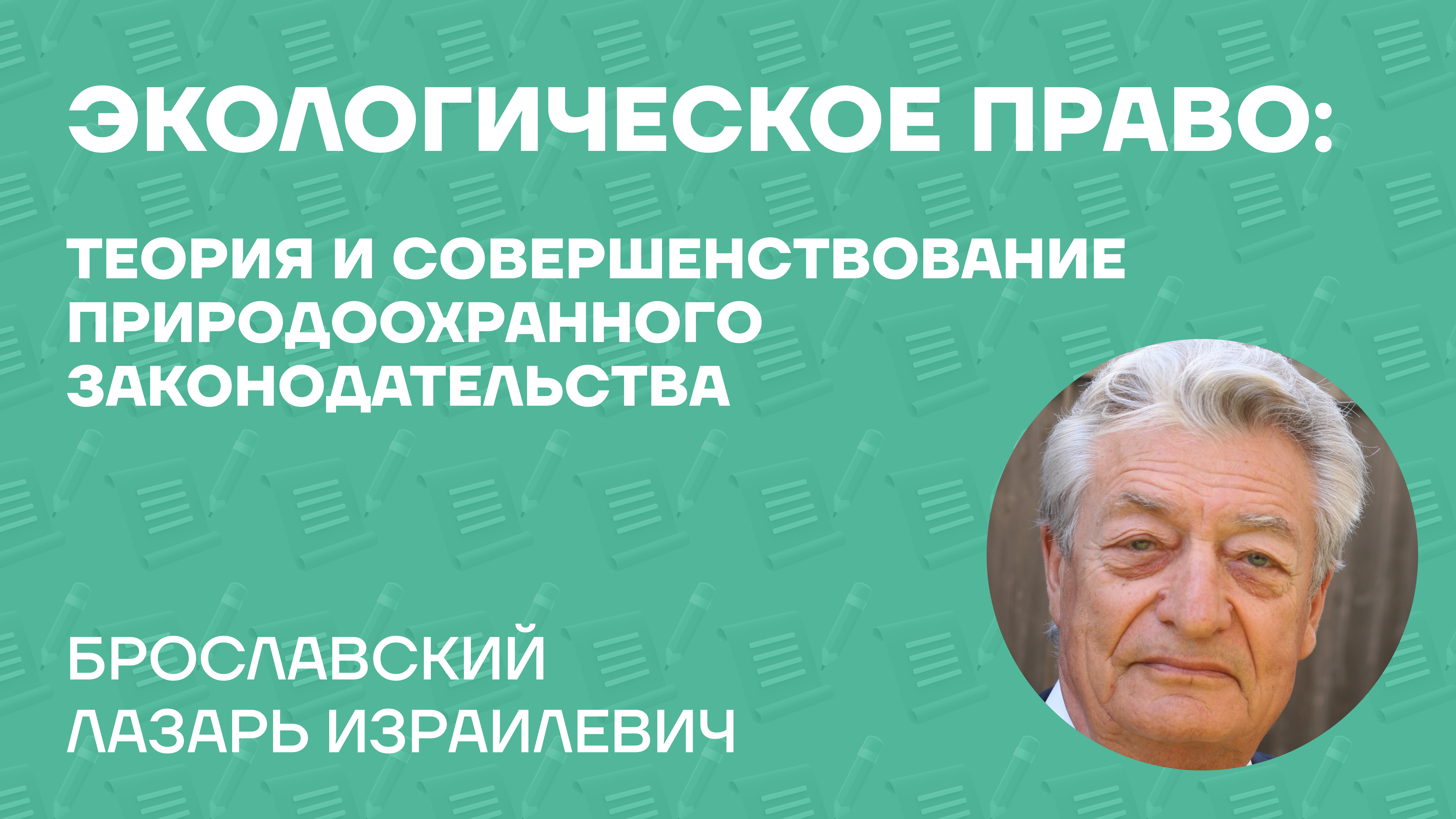
Закончил юрфак МГУ в 1959 г., защитил кандидатскую диссертацию в 1969 г. Около 30 лет практической, научной и преподавательской деятельности, а также методическое руководство работой юридических служб органов надзора Госстандарта СССР, в системе которого я работал с 1978 г. по 1991 г. С 1991 г. проживаю в США.
Кандидат юридических наук, доцент (Россия). PhD (law), USA. В настоящее время на пенсии; общественный консультант юридической фирмы Z. Broslavsky&Weinman (Лос-Анджелес), специализирующейся на защите прав потребителей и трудовых спорах.
Неоднократно приезжал в Россию. Выступал с лекциями перед студентами юрфака МГУ и Университета правосудия, c докладами в Институте Законодательства и Сравнительного Правоведения при Правительстве Российской Федерации, а также с докладом на Конгрессе стран БРИКС в Екатеринбурге (2015 г.). Участвовал в работе Росконгресса (Москва 2019 г.).
В США в первые несколько лет продолжал заниматься тематикой, связанной с моей работой в системе Госстандарта СССР – качество и безопасность продукции, а именно весь комплекс правовых проблем: законодательство, практика его применения, надзор, санкции и юридическая ответственность защита прав потребителей.
C 2004 г. и по настоящее время по совету моего университетского товарища профессора С.А. Боголюбова, известного учёного в области экологического права, занимаюсь сравнительно-правовым исследованием охраны окружающей среды в России, США и странах Евросоюза, а по отдельным вопросам также в Великобритании, Китае, Индии, Японии и некоторых других зарубежных странах.
Чем меня привлекло экологическое право, одна из новых, быстро развивающихся отраслей права?
Прежде всего тем, что проблема охраны окружающей среды является одной из актуальнейших, решить которую необходимо как на национальном, так и на международном уровне. Экологические катаклизмы и катастрофы, которые всё чаще происходят в последние десятилетия, вызваны как объективными факторами, так и чрезмерной нагрузкой на окружающую природную среду. Способность природы к самовосстановлению не беспредельна.
Несмотря на усилия, предпринимаемые на национальном и международном уровне, экологическое состояние среды обитания человека неуклонно ухудшается.
Общеизвестна максима – мы не получаем эту землю в наследство от своих предков, мы занимаем ее у потомков!
Решение экологических проблем – задача, которая стоит перед всеми отраслями науки, юридической в том числе. Представители естественных наук, особенно занимающиеся вопросами климатологии, должны дать нам ясную картину мира и что ожидает в будущем планету Земля.
Задача, которая стоит перед юристами, – разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства в области охраны окружающей среды и повышению эффективности его применения.
Правовой механизм должен быть направлен на адаптацию к изменяющимся климатическим условиям, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, минимизацию экологического вреда, если его полностью избежать невозможно, восстановление надлежащего качества окружающей среды и соответственно качества жизни людей.
Экологические проблемы для меня, как научного работника, привлекательны также и тем, что их необходимо рассматривать в комплексе, с позиций различных отраслей права.
В своей деятельности в разное время мне приходилось заниматься вопросами уголовного права и процесса, гражданского права и процесса, хозяйственного, т.е. предпринимательского права, трудового и энергетического права, а также общей теории права.
За период времени с 2004 г. по 2025 г. опубликовал по проблемам экологии 7 монографий, несколько десятков статей в юридических и отраслевых журналах и в сборниках научных трудов.
В структуре монографии можно условно выделить два компонента.
Первый — теоретико-правовой: экологическое право в системе российского права, его взаимосвязь и взаимодействие с другими отраслями права. Он основан на анализе действующего законодательства и других нормативно-правовых актов, а также научно-теоретических концепций российских правоведов.
Второй — нормативно-прикладной: предложения по совершенствованию российского законодательства об охране окружающей среды, его упорядочению, систематизации и кодификации, а также повышению эффективности его применения.
Исходным положением моей теоретической конструкции (позиции) является выделение в системе права (законодательства) первичных и вторичных отраслей. Здесь ключевая роль принадлежит исследованиям известного российского правоведа С.С. Алексеева.
Я рассматриваю и развиваю концепцию С.С. Алексеева применительно к экологическому праву, которое также отношу к вторичным отраслям права. Однако к первичным по отношению к экологическому праву, по моему мнению, являются только три отрасли: гражданское, административное и финансовое.
Разумеется, что концепция выделения первичных и вторичных отраслей права далеко не единственная в вопросе о системе права. Eсть и другой подход: экологическое право – суперотрасль (надотрасль), вбирающая в себя правовые нормы, работающие в области экологии, и эти нормы (гражданско-правовые и административно-правовые) становятся эколого-правовыми. Тем самым они как бы меняют свою правовую сущность. По моему мнению, вряд ли уместно использовать в праве понятие “супер”, в нашем случае суперотрасль. Что приемлемо для спорта и кинематографа, вряд ли подходит для определения места той или иной отрасли права в общей системе права. Вряд ли здесь можно говорить о конкуренции, соперничестве, превосходстве одной отрасли над другой. Речь должна идти об их взаимодействии и гармонии.
Я в соответствии с концепцией С.С. Алексеева рассматриваю эту трансформацию следующим образом. Правовые нормы, регулирующие отношения в области экологии имеют “двойную оболочку”.
Что это значит? Так, например, правовые нормы о возмещении экологического вреда: первая оболочка – гражданско-правовая, вторая – эколого-правовая. Точно так же, предписание об устранении выявленных нарушений экологических требований: пeрвая оболочка административно-правовая, вторая – эколого-правовая; обязанность вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду первая оболочка финансово-правовая, вторая – эколого-правовая.
В этой связи возникает вопрос, что означает “экологизация права”? Это выражение нередко встречается в юридической литературе.
Думается, что речь должна идти не о трансформации, изменении правовой природы традиционных, т.е. первичных отраслей права и образовании абсолютно новой правовoй сущности, а о всё большем использование методов правового регулирования первичных отраслей права на сферу экологии.
Все отрасли права, первичные и вторичные, взаимодействуют и дополняют друг друга, обеспечивая тем самым комплексное регулирование обществeнных отношений в соответствующей сфере жизни общества, в том числе экологии.
Между правовыми нормами экологического права и правовыми нормами административного, финансового и гражданского права нет водораздела, “пограничной линии”, в том смысле, что одни общественные отношения регулируются правовыми нормами экологического права, а другие — соответственно правовыми нормами указанных первичных отраслей права. Экологическое право и отрасли первичного права – не однопорядковыe отрасли права.
Cуть экологического права. Как отрасль права, оно регулирует общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы. Cледовательно, экологическое правo является необходимым средством в деле обеспечения гармонии, достижения разумного баланса в триаде: человек - общество - природа.
Экологическое право, как вторичная отрасль права, базируется на корневой системе, т.е. на первичных отраслях права, положения которых оно развивает применительно к сфере природопользования и охраны окружающей среды.
Но есть и обратная связь – необходимость внесения изменений и дополнений в законодательные акты первичного права, вызванные потребностями общества в надлежащем регулировании той или иной сферы общественных отношений, экология, энергетика и др.
Такая необходимость, по моему мнению, назрела в сфере экологии, а именно надлежащего регулирования возмещения экологического вреда. Следовало бы внести дополнения в ГК главы 59 “обязательства вследствие причинения вреда” и 48 ”страхование”. На моих предложениях по этому вопросу остановлюсь дальше.
Структура природоохранного законодaтельства.
Первая группа – специальные законы. В неё входят:
— основополагающий Закон Об охране окружающей среды;
— рамочные (Закон об охране атмосферного воздуха, об экологической экспертизе, об отходах производства и потребления и др.);
— акты текущего законодательства, в том числе, направленные на решение определённых задач, а также о внесении изменений и дополнений в основополагающий закон и в рамочные законы.
Вторая группа – правовые нормы законодательных актов первичных отраслей права: гражданского, административного, уголовного, международного.
Сразу оговорюсь, я занимаюсь исследованиями только национального права и законодательства. Международное экологическое право – это отдельная, достаточно обширная сфера правовых исследований.
Центральное место в монографии занимают проблемы нормативно-технического регулирования в сфере экологии и возмещения экологического вреда.
Нормативно-техническое регулирование.
Проблемами нормативно-технического регулирования и стандартизации, как наиболее общего понятия. Я занимаюсь ими примерно 50 лет. Сначала применительно к продукции, её качеству и безопасности. А в последние 20 лет применительно к экологии.
Основные положения нормативно-технического регулирования в области охраны окружающей среды закреплены в Законe Об охране окружающей среды. Это:
— нормативы качества окружающей среды, устанавливаемые в виде предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных и иных загрязняющих веществ;
— нормативы предельно допустимого вредного воздействия на состояние окружающей среды (ПДУ);
— нормативы допускаемого изъятия природных ресурсов.
Естественно, что все эти нормативы являются содержанием каких-либо документов (актов). Возникает вопрос, в правовую форму каких видов нормативно-правовых документов (актов) они облекаются?
Понятие нормирование используется в Законе как деятельность по установлению нормативов в целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. Следовaтельно, в Законе идет речь о нормотворческой, правотворческой деятельности.
Нормативно-техническое регулирование в сфере экологии — правовая форма технического нормирования, упорядочения, регламентации. Результат нормирования — утверждение и введение в действие нормативно-правовых актов (документов). Это могут быть технические регламенты; стандарты, которые в установленном порядке становятся обязательными; строительные нормы и правила; санитарно-гигиенические нормы; и др.
Их специфика в том, что они содержат так называемые технико-юридические нормы. Исходя из этого, я рассматриваю все эти нормативно-технические документы (акты) как «техническое законодательство» (в широком смысле этого слова), являющееся неотъемлемой частью системы правового регулирования и средством реализации положений природоохранных законов.
С точки зрения правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности, назначение этого технического законодательства заключается в следующем.
Оно устанавливает определённые границы и пределы для хозяйствующих субъектов и других природопользователей.
ПДК, т.е. предельно допустимая концентрация вредных и иных загрязняющих веществ, устанавливает минимум требований к качеству и безопасности объектов и компонентов окружающей среды, своего рода “границу” между дозволенным и недозволенным. Предельно допустимые нормативы вредного воздействия на состояние окружающей среды, а также нормативы допускаемого изъятия природных ресурсов устанавливают предел негативного воздействия на окружающую среду, а если это невозможно полностью избежать, направлены на его минимизацию.
Хозяйствующие субъекты и другие природопользователи, потенциальные источники негативного воздействия на экологию, обязаны соблюдать соответствующие нормы, требования и правила.
Контрольно-надзорные и правоохранительные органы обязаны применять соответствующие меры правового воздействия в случаях нарушения этих границ и пределов, а органы исполнительной власти обеспечить восстановление надлежащего качества и безопасности объектов и компонентов окружающей среды.
Особо хотелось бы выделить вопрос о судебных делах по содержанию нормативно-технических документов, а также o своевременности их принятия и пересмотра.
Они представляют собой наиболее подвижную, мобильную часть правового регулирования в области экологии.
В судебной практике США имеется обширная судебная практика. Истцами, как правило, являются общественные экологические организации, ответчиками – компании и концерны, по большей части добывающих отраслей. Причём, споры могут идти даже по отдельным показателям нормативам, характеристикам, закреплённым в том или ином нормативно-техническом документе.
Рассмотрение таких дел связано с проведением экспертизы, к которой нередко прибегают обе стороны по делу. Эта категория дел в практике российских судов очевидно отсутствует.
Возмещение экологического вреда.
Юридическая наука и судебная практика однозначно рассматривают вопросы ответственности за причинение экологического вреда применительно к гражданско-правовому институту “обязательства вследствие причинения вреда”.
При этом подчеркивается, что обязательство по возмещению экологического вреда возникает в результате экологического правонарушения, и причинитель вреда несет деликтную ответственность в соответствии с нормами гл. 59 ГК.
При вынесении решений о возмещении экологического вреда суды, как правило, ссылаются на ст. 77 п. 1 Закона Об охране окружающей среды и соответствующие статьи гл. 59 ГК, руководствуясь при этом постановлениями Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования (п. 33 и 34) и от 30 ноября 2017 г. О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.
Не оспаривая обоснованность, целесообразность и справедливость выносимых решений по существу — разумеется, если доказаны факты правонарушения и их причинно-следственная связь с негативными последствиями для окружающей среды, — хотелось бы поставить под сомнение правомерность ссылки на соответствующие нормы гл. 59 ГК.
Гражданско-правовой институт обязательства вследствие причинения вреда традиционно ориентирован на защиту частных интересов, что четко сформулировано нормами гл. 59 ГК.
Однако причинение экологического вреда — это нарушение не только частных, но и общественных интересов.
Потерпевшими являются, как обычно указывается в судебных решениях, неопределенное число лиц. Более того, негативные последствия нарушения экологических требований могут распространяться на среду обитания человека во времени и в пространстве, стать причиной ухудшения качества жизни как нынешнего, так и будущих поколений.
Представляется, что это пробел гражданского законодательства. Ссылка на положения статей гл. 59 ГК при вынесении решений о возмещении экологического вреда представляется слишком широким толкованием закона, выходящим за рамки полномочий Верховного Суда. Полагаю, что этот вопрос должен быть решен законом первичного права, а именно ГК.
Одна из актуальных проблем российского права — баланс публичных и частных интересов. В связи с этим следует отметить, что гражданское право призвано защищать не только частные, но и общественные интересы. При этом необходимо иметь в виду, что границы частного и публичного права весьма подвижны. C одной стороны, происходит «публицизация» частного права, а с другой — «коммерциализация» широкого круга общественных отношений, ранее находившихся в сфере административного регулирования (см. статью Яковлева В.Ф. и Талапиной Э.В. Роль публичного и частного права в регулировании экономики, Журнал российского права. 2012. № 2. С. 7.).
Cуть моих сформулированных в монографии в порядке обсуждения предложений по вопросу о возмещении экологического вреда заключается в следующем. Cт. 1064 ГК (абз. 1 п. 1) можно было бы изложить в следующeй редакции: Вред, причиненный личности и имуществу гражданина, имуществу юридического лица, а также окружающей природной среде, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Это означало бы, что деликтная, внедоговорная ответственность является правовым средством защиты не только частных, но и общественных, публичных интересов.
Применительно к проблеме распространения гражданско-правового института “обязательства вследствие причинения вреда” на сферу экологии и внесения соответствующих дополнений в ГК представляется обоснованным вывод известного цивилиста В.П. Мозолина, что договорная и внедоговорная ответственность “…содержат элементы как частно-правового, так и публично-правового порядка. Различие лишь в их соотношении. В договорной ответственности значительно больше цивилистических элементов… в деликтной… в наибольшей степени присутствуют публично-правовые элементы… и решающее значение имеет объективный элемент” (cм.: Мозолин В.П. Гражданско-правовая ответственность в системе российского права // Журнал российского права. 2012. № 1. С. 34–40).
В этой связи следовало бы, по моему мнению, внести в ГК статью, закрепляющую специальный экоделикт, имеющий публично-правовой характер и направленный на защиту общественных интересов, среду обитания человека.
Предлагается для обсуждения следующая редакция: Вред, причиненный окружающей среде, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в случаях, предусмотренных законом.
Предлагаемые правовые нормы ГК будут служить основанием для законодательного регулирования института возмещения экологического вреда в основополагающем Законе об охране окружающей и среды и разработанном в его развитие специальном Законе О возмещении экологического вреда.
В Законе Об охране окружающей среды следовало бы закрепить следущие положения: ответственность (т.е. обязанность) за возмещение экологического вреда несут хозяйствующие субъекты и другие природопользователи, если он причинен в результате как их неправомерных, так и правомерных действий (бездействия); а также за “унаследованный” от предыдущего владельца (собственника) данного объекта окружающей среды.
Некоторые пояснения к сказанному.
Представляется необходимым однозначно закрепить в законе, что обязанность причинителя экологического вреда возместить этот вред возникает как в результате правонарушения, так и в результате его правомерных действий. Как справедливо подчёркивает известный цивилист О.Н. Садиков, “само понятие деликта, традиционно используемого со времен римского права гражданским законодательством, уже не отражает всего спектра отношений, возникающих в современном мире и связанных с обязательством возместить причиненный вред. Такое обязательство может возникнуть как в результате правoнарушения, так и в результате правомерных действий”.
Действительно, сфера потерь в гражданском обороте может выходить за рамки юридической ответственности. Законом Об охране окружающей среды предусмотрено, что “экологический вред, причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельности, в том числе на проект которой имеется положительное заключение государственной экспертизы, включая деятельность по изъятию компонентов природной среды, подлежит возмещению заказчиком и (или) субъектом хозяйственной и иной деятельности”. (cм:. О.Н. Садиков. Убытки в гражданском праве Российской Федерации. М., 2009. С. 5–9).
Ответственность за “унаследованный экологический вред” означает, что закон возлагает на хозяйствующих субъектов и других природопользователей обязанность восстановить надлежащее качество окружающей среды и тогда, когда экологический вред причинен до приобретения или получения ими на законных основаниях права собственности, владения или пользования определенным объектом окружающей среды.
В соответствии с положениями гражданского законодательства они несут ответственность за экологический вред как правопреемники, независимо от того, знали ли они об этом или нет. Разумеется, они вправе предъявить к предыдущему владельцу (собственнику) регрессный иск в случаях, когда негативные последствия на состояние окружающей среды были долговременными, выявлены позднее и не могли быть установлены к моменту вступления ими во владение данным объектом окружающей среды.
В связи с внесением в гл. 59 ГК положений об обязательствах о возмещении экологического вреда, очевидно, стоит внести соответствующие дополнения в гл. 48, распространив тем самым институт страхования и на эту сферу жизни общества.
Ст. 927 (п. 3) «Добровольное и обязательное страхование» следовало бы дополнить указанием на возможность в предусмотренных законом случаях обязательного государственного страхования гражданской ответственности за причинение экологического вреда, а также внести в эту статью дополнительный пункт о том, что обязательному страхованию подлежит деятельность природопользователя, связанная с повышенной опасностью для окружающей среды.
Представляется, что возмещение экологического вреда должнo быть комплексным правовым институтом, включающим в себя правовыe нормы не только гражданского права, но также и правовые нормы административного и финансового права.
Административно-правовая ответственность.
Административная ответственность хозяйствующих субъектов за экологические правонарушения по российскому законодательству носит чисто символический характер и нуждается в кардинальных изменениях. Это общий вопрос ответственности за нарушение административного законодательства. Совершенно справедливо проф. Н.А. Шевелёва подчёркивает, что действующая система административной ответственности, закреплённая в Кодексе Об административных правонарушениях, до сих пор cохраняет “…советские подходы”. (см:. Шевелева Н.А. Административное право до сих пор базируется на советских подходах. // Закон. 2024. С. 8–15).
Следовало бы разделить законодательство об административной ответственности физических и юридических лиц. Применительно к экологии, на мой взгляд, она должна быть закреплена в соответствующих рамочных природоохранных законах. Причём, не в виде одноразовых штрафов, а штрафов, взыскиваемых за каждый день выявленных и продолжающихся в течение определённого времени нарушений. Очевидно, нужно установить предельный размер штрафа, а также право суда уменьшить его с учётом обстoятельств дела и финансовых возможностей хозяйствующего субъекта-нарушителя.
Это будет означать что административные штрафы, взыскиваемые с хозяйствующих субъектов-экологических правонарушителей, будут выполнять не только стимулирующие, но также и компенсационные функции.
Естественно, только при условии, что уплаченные суммы штрафов будут полностью перечисляться в соответствующие экологические фонды, предназначенные для обеспечения надлежащего качества и безопасности окружающей среды.
Система ответственности за экологический вред.
Полагаю что онa должна быть ”двухуровневой”. Первый уровень — ответственность хозяйствующих субъектов и других природопользователей в соответствии с гражданским, административным и финансовым законодательством. Второй — ответственность государства в лице управомоченных на то органов исполнительной власти в соответствии с финансовым законодательством.
Государство не должно брать на себя все расходы, связанные с возмещением экологического вреда и восстановлением надлежащего качества окружающей среды, в случаях, когда согласно закону это обязанность самих хозяйствующих субъектов. Как уже было сказано, хозяйствующие субъекты должны страховать свои производственные и коммерческие риски, в том числе ответственность за причинение экологического вреда.
Хозяйствующие субъекты и другие природопользователи не несут ответственность за экологический вред в случаях, когда он является результатом военных действий и непреодолимой силы: стихийных бедствий и природных катаклизмов. Это обязанность государства.
Суть субсидиарной ответственности государства заключается в том, что государство как гарант благоприятной окружающей среды, конституционного права граждан, в определенных случаях обязано восстановить надлежащее качество окружающей среды и возместить причиненный хозяйствующими субъектами вред окружающей среде, гражданам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и публично-правовым образованиям.
Такими случаями являются банкротство и прекращение деятельности хозяйствующего субъекта, отсутствие у него достаточных средств для полного возмещения причиненного вреда.
Систематизация и кодификация природоохранного законодательства.
Обращает на себя внимание тот факт, что действующие природоохранные законы были приняты в большинстве своём в 1990-е годы, в то время как Экологическая и Климатическая доктрины и другие документы, определяющие стратегию в области экологии, были приняты позднее.
Правда, в эти законы постоянно вносятся изменения и дополнения. Взять, к примеру, основополагающий Закон Об охране окружающей среды. За более чем 20 лет после его принятия в этот Закон было внесено более 30 изменений и дополнений. Последняя редакция датирована 8 августа 2024 г.! Но в целом картина мало изменилась. Как и в советский период, “бал правят ведомственные нормативно-правовые акты”. А природоохранное законодательство так и остаётся хаотичным и фрагментарным.
Вывод напрашивается один – нужна полная инвентаризация и ревизия всего массива накопившегося нормативно-правового регулирования в области охраны окружающей среды. А затем предстоит большая законотворческая работа по созданию стройной системы законодательства, включая как федеральные законодательные акты, так и ведомственные и межведомственные нормативные акты.
Естественно, напрашивается пресловутый вопрос разработать Экологический кодекс и тогда всё станет ясно и понятно!? Увы, как сказал мудрец, нет простых решений сложных проблем. Возьмём, к примеру, экологические кодексы Франции, Швеции, Казахстана или Республику Башкортостан, которая, в отличие от других субъектов Российской Федерации, приняла не просто закон, а именно кодекс.
Что же изменилось? Разве в результате этого отпала необходимость принятия ряда, если не множества других природоохранных законов? Нельзя упрощать прoблему кодификации!
В первую очередь нужна концепция, определяющая систему специальных природоохранных законодательных актов, при этом, как уже отмечалось, не извлекая и не “растаскивая” действующие правовые нормы гражданского и уголовного законодательства.
Исключением, на мой взгляд, как было сказано выше, является административно-правовая ответственность хозяйствующих субъектов — экологических правонарушителей.
Представляется, что объединить и кодифицировать все правовые нормы об охране окружающей среде в одном законодательном акте невозможно. Необходимы определенные система и структура, а именно –головной, основополагающий природоохранный закон и законодательные акты по отдельным объектам (компонентам) окружающей среды, а также законы, закрепляющие, там, где это необходимо, единый для них правовой режим. В частности, Закон Об экологической экспертизе, Закон о возмещении экологического вреда.
Определение оптимального соотношения правовых норм, закрепляемых в системообразующем законе, и правовых норм правовых институтов нормативно-техническое регулирование, экологическая экспертиза, лицензирование, контроль и надзор и др. — предмет специальных исследований.
На этой основе следует разработать план законопроектных работ с обязательным привлечением ведущих общественных экологических организаций, вклад которых в законотворчество мог бы быть значительным, особенно учитывая зарубежный опыт.
Форма системообразующего закона? Это вопрос не принципиальный. Важно, какие правовые нормы максимально прямого действия в нем закрепить. Очевидно одно — нужен полнокровный, работающий, а не декларативный основополагающий, системообразующий законодательный акт. Это может быть кодекс, уложение или просто закон, каковым является действующий Закон Об охране окружающей среды. Его можно было бы взять за основу и, разумеется, коренным образом переработать: и структуру, и содержание.
Планы на будущее. Ближайшее будущее – конец ноября, я сдаю в издательство ИНФРА второе издание моей монографии 2018 г.
Есть ещё несколько тем, которыми я собираюсь заняться.
Одна из них – защита экологических прав граждан, главным образом возмещение причинённого вреда в результате нарушения экологических норм, требований и правил. Она особенно актуальна для современной России в связи с закреплением в российском законодательстве наряду, с индивидуальными, также коллективных исков физических и юридических лиц. В монографии 2018 г. и в её переиздании рассмотрены коллективные иски по крупным экологическим катастрофам в США. Хотелось бы разобраться с тем, как эта категория исков работает и может работать в России.
Другая тема – правовые проблемы охраны одного из объектов окружающей среды (атмосферного воздуха и/или почвы) и разработка предложений по совершенствованию соответствующего законодательства.
В этой связи заслуживает внимания предложение Российского Экологического Общества о разработке специального Закона Об охране почв. В настоящее время отдельные правовые нормы об охране почв закреплены в ряде законов. Так в соответствии с Земельным Кодексом (ст. 13) землепользователь обязан проводить мероприятия по защите почв от загрязнения, эрозии, заболачивания, уплотнения и других негативных воздействий. Действует также Закон 1998 г. О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. А вакуум правового регулирования в области охраны почв заполняют ведомственные нормативно-правовые акты.
Очевидно нужен полнокровный закон прямого действия как рамочный закон, являющийся базой текущего законодательства по вопросам охраны почвы и обеспечения её надлежащего качества. При этом важно подчеркнуть, что основополагающий Закон Об охране окружающей среды определяет почву как один из подлежащих охране объектов окружающей среды, указывая на необходимость предовращения загрязнения почвы и обеспечения её надлежащего её качества.
В целях унификации законодательства об охране почвы стран СНГ в 2007 г. был принят Модельный закон "Об охране почв". Специальные законы об охране почв действую в таких странах, как в Китай, Япония, Германия, Франция, Австралия.
Разумеется, что действующие ведомственные нормативно-правовые акты являются исходным материалом для разработки Закона, имея в виду правовые нормы, которые следовало поднять на уровень федерального закона, а не ведомственного (межведомственного) нормотворчества.
И ещё одна тема, которой я занимаюсь как общественный консультант американской юридической фирмы, – практика американских судов рассмотрения трудовых споров. Авторам, впервые собирающимся написать монографию, я бы посоветовал чётко определиться с теоретической конструкцией (позицией) как основы своих исследований, уяснить своё видение проблемы. А исходя из этого сформулировать в порядке обсуждения конкретные предложения по совершенствованию российского законодательства и эффективности практики его применения.
Любая теоретическая конструкция важна не сама по себе. Она должна определять пути совершенствования действующего законодательства и практики его применения. Она – рабочий инструмент, дорога, которая должна вести к определённой цели. Иначе это просто игра слов, дорога в никуда.
“Суха, мой друг, теория везде, но древо жизни пышно зеленеет!” (Фауст, Иоганн Вольфганг Гёте).
Авторам, впервые собирающимся написать учебное пособие, я бы посоветовал не перегружать его теорией, и тем более обсуждением спорных вопросов, что должно быть предметом монографий. Побольше конкретики, поменьше общих рассуждений, деклараций, пожеланий. Разумеется, чёткая и по возможности общепринятая теоретическая основа должна предшествовать изложению ключевых положений того или иного закона.
Нужны конкретные примеры. И если их нет в практике правоохранительных органов, то автору, по моему мнению, следовало бы их “сочинить”, как это делается в задачниках, решебниках и т.п.
На основе анализа практики преподавания в университетах США спецкурса Экологическое право (Environmental Law) я пришёл к выводу, что, на мой взгляд, оно имеет свои плюсы и минусы. К минусам я бы отнёс отсутствие единой программы, т.е. своего рода планки, определяющей объём знаний, которые должен получить студент. Каждый профессор устанавливает его исключительно по своему собственному усмотрению. Отсюда – колоссальный разброс в качестве подготовки будущих юристов.
Что же касается плюсов, то главное внимание уделяется не запоминанию материала, а умению анализировать конкретные, весьма сложные, обычно хрестоматийные судебные дела, прошедшие все судебные инстанции, включая Верховный Суд США. Попросту говоря студент “учится мыслить”, приводить собственные аргументы в обоснование своей позиции по данному делу. Это своего рода подготовка к предстоящим горячим судебным баталиям студентов, выбравших трудную, но благородную профессию юриста.
В завершение хочу сказать, что никаких трудностей в работе с издательством ИНФРА-М я не испытывал и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Буду рад профессиональной дискуссии, отзывам и предложениям. Спасибо за внимание!

